 Ролан Барт сказал, что язык – это фашизм. Когда постструктуралисты
начали его внимательно исследовать с этой точки зрения, оказалось, что
язык содержит все формы репрессий подавлений, иерархий. Вместо жестко
структурированного языка, Барт предлагает бессмысленно бубнить, пускать
пузыри, нужно сесть где-нибудь в кафе, и пусть дальше само все
происходит, без языка, а совокупность клаксонов, выкриков, шумов, звук
капели образует новый постязык – на сей раз по-настоящему плюральный,
либерально-демократический и свободный, в отличие от «тоталитарной»,
репрессивной речи, на которой изъясняются обычные люди. Ролан Барт сказал, что язык – это фашизм. Когда постструктуралисты
начали его внимательно исследовать с этой точки зрения, оказалось, что
язык содержит все формы репрессий подавлений, иерархий. Вместо жестко
структурированного языка, Барт предлагает бессмысленно бубнить, пускать
пузыри, нужно сесть где-нибудь в кафе, и пусть дальше само все
происходит, без языка, а совокупность клаксонов, выкриков, шумов, звук
капели образует новый постязык – на сей раз по-настоящему плюральный,
либерально-демократический и свободный, в отличие от «тоталитарной»,
репрессивной речи, на которой изъясняются обычные люди.
Первая лекция профессора Александра Дугина, прочитана в Южном федеральном университете в рамках курса "Современная идентичность России" специально для аспирантов и научныъ работников.
Кризис образа
Кризис образования в современной России – не просто констатация технического сбоя функционирования образовательной системы. Все обстоит более серьезно. В нашем обществе полностью отсутствует консенсус относительно образа мира, в котором мы живем, и образа нас самих, то есть русской, российской идентичности. Это главный вопрос образования, но и главный вопрос современной общественной жизни.
Этот вопрос может решаться по-разному. Можно попытаться при анализе этой проблематики переложить ответственность вину на кого-то (например, на власть или на научное сообщество), попытаться найти виновного и спросить - почему у нас нет образа? Нет образа в науке, в народе, в культуре, во власти, в обществе в целом. Кто же в этом виноват? Мы, ученые? Может быть общество, которое этого образа не создает? Либо власть, которая этим не озабочена? Либо, если следовать теории заговора, «злодеи», которые этот образ у нас похитили? Все ответы хороши, и все в равной степени плохи. Поэтому модель, которую я предпочитаю в своей научной, интеллектуальной, политической и общественной деятельности – это просто работать на прояснение, или конституирование (как посмотреть) этого образа, одновременно, предлагая его определить, отыскать, утвердить и ученым, и народу, и интеллектуальной элите, и обществу, и власти. Если мы вырабатываем этот образ, мы должны делать это совместно, потому что кто-то один или какая-то одна инстанция или институция (а все заведомо находятся сегодня в ситуации потери образа», его не сможет найти – в лучшем случае это будет схема, в худшем – симулякр. Власть является частью народа, получившей образование в неопределенное, смутное, полусоветское и полулиберальное время. Сплошь и рядом в политической элите мы встречаем людей с сознанием откровенно криминальным, но практически всегда запутанным и хаотичным. Наше научное сообщество тоже в достаточной мере одичало. Мы сталкиваемся либо с «добрыми дикарями», если имеем дело с «учеными» («ботаниками»), либо со «злыми дикарями», если мы имеем дело с властью и бизнесом.
Объективность метрики
В данном курсе я предлагаю сосредоточиться на самой насущной теме: на выработке образа России и мира, вернее, на подготовительных этапах такой выработки, то есть, на описании метрики и топологии нашей проблематики. Мы должны ответить – пусть приблизительно и гипотетически – на главные вопросы: «кто мы?» и «где мы?», быть может, лишь уточнить структуру этих вопросов, если ответить полноценно не удастся.
При разработке этой гипотезы «qui» et «qua» (кто? и где?) относительно России, нужно, по возможности, абстрагироваться от своих взглядов и предпочтений, от своих позитивных или негативных оценок, поскольку мы имеем дело с научными проблемами. В первую очередь, задача состоит в том, чтобы выработать объективную модель метрики, то есть, определить, в каком мире мы живем и кем мы являемся, максимально объективно, рационально и взвешенно. Хорошо это или плохо, – эти акценты будут расставлены потом или расставлять их будет предоставлено кому-то другому. Поэтому этот курс максимально должен быть десубъективизирован и «аморальным» в ницшеанском смысле, то есть без оценок в отношении глобализму, к постмодерна, прошлого России и современных процессов. Нужно попытаться вначале просто описать их так, как они есть. А каждый уже сможет придать этому знаки, поставить плюс, минус, хорошо, плохо.
Дефиниции постмодерна
Практически все сегодня на Западе согласны – с теми ли иными оговорками – что современное человечество (по крайней мере, его «цивилизованная» часть) живет в условиях постмодерна. Где? И когда? В социокультурном смысле это определяется через обращение к постмодерну. Мы – находимся в постмодерне. Но определив это, куда мы при этом попадаем? Поскольку нет никаких однозначных конвенций, каждый под «постмодерном» понимает что-то свое, а иногда вообще все, что угодно. Это означает, что под «постмодерном» никто ничего не понимает. Но это у нас. В той цивилизации, где этот концепт возник – то на современном Западе, определенная ясность есть. И для начала нашего самоопределения, мы просто обязаны четко понять, что под этим имеется в виду там.
Итак, что следует понимать под «постмодерном»? Под «постмодерном» следует понимать объективное состояние западноевропейского общества, выходящего из режима модерна. Модерн, который оставляется, преодолевается, «отменяется», «снимается» (в гегелевском смысле) был основан в Новое время, в конкретных исторических и географических (Западная Европа) границах, в эпоху Просвещении кристаллизировался, а в XIX – XX веках достиг апогея в политическом, интеллектуальном и научном смысле. Наука нового времени – это та наука, с которой мы сегодня все еще имеем дело. Модерн воплотился в научных парадигмах позитивизма, материализма, атеизма, в политических системах секулярного общества, в либеральной демократии, в социокультунном представлении об индивидуальном достоинстве, что воплотилось в идеологии прав человека.
Так вот, постмодерн означает конец всего этого.
 При этом постмодерн – это не «постмодернизм», не эпатажное творчество эстетствующих нигилистов типа американского режисcера Тарантино или российского писателя Сорокина. Постмодерн – это объективное состояние социально-политической, исторической, культурной и цивилизационной среды человечества в его западноевропейским сегменте, в первую очередь где и развивалась та история, которую мы называем модерном. При этом постмодерн – это не «постмодернизм», не эпатажное творчество эстетствующих нигилистов типа американского режисcера Тарантино или российского писателя Сорокина. Постмодерн – это объективное состояние социально-политической, исторической, культурной и цивилизационной среды человечества в его западноевропейским сегменте, в первую очередь где и развивалась та история, которую мы называем модерном.
Модерн, который мы стремительно теряем
Понятно, что модерн пришел не везде одновременно и не везде глубоко укоренился. Модерн появился на Западе около 300 лет назад. Там он состоялся, выделился, оттуда он распространился поначалу колониально, а потом и постколониально на весь мир. Но, конечно же, когда мы говорим о модерне, мы говорим о западноевропейской цивилизации, о рациональном европейском «белом человеке», который первым среди других народов совершил переход от традиций, религий и иерархий к разуму, светскости и равенству. Он сделал разум высшей ценностью, построил на этом разуме всю свою систему, всю свою аксиологию, всю свою науку, всю свою методологию. А потом навязал ее всем остальным (можно сказать и иначе – «а потом облагодетельствал ею всех остальных» – смысл тот же; «навязал» – более нейтрально). Вот что такое модерн.
Воплощением модерна был позитивизм, материализм, атеизм и то общество, к которому мы все еще по инерции еще принадлежим, наше общество -- общество российское, европейское, американское и, в огромной степени, китайское, индийское, африканское, латиноамериканское. Вообще мировое общество до сих пор находится формально в модерне, и на поверхности все еще разделяет его конвенции.
Постмодернизм и постмодерн
 Тезис о постмодерне появился в 60-е, одним из первых его употребил Чарльз Дженкс (1), назвавший постмодерном некоторые особенности современной архитектуры. Позже идею подхватили и развили французские философы структуралисты и постструктуралисты. Постепенно термин вошел в оборот и стал обозначать все более широкие реальности. Начиная с конца 70-х годов, наиболее авангардные философы, культурологи, критики, искусствоведы, социологи стали причислять себя к постмодернизму. Но это было только начало. Постмодернизм имеет такое же отношение к постмодерну как модернизм к модерну. Почувствуйте разницу. Модернизм – узко эстетическое направление европейской культуры начала ХХ века – Гауди в Испании, «Югендштиль» в Германии и т.д.. Но модерн – это вся эпоха Нового времени. Модерн начинается с Декартом, Ф.Бэконом и Ньютоном, а заканчивается с нами. Мы уже живем в последней фазе этого периода. Тезис о постмодерне появился в 60-е, одним из первых его употребил Чарльз Дженкс (1), назвавший постмодерном некоторые особенности современной архитектуры. Позже идею подхватили и развили французские философы структуралисты и постструктуралисты. Постепенно термин вошел в оборот и стал обозначать все более широкие реальности. Начиная с конца 70-х годов, наиболее авангардные философы, культурологи, критики, искусствоведы, социологи стали причислять себя к постмодернизму. Но это было только начало. Постмодернизм имеет такое же отношение к постмодерну как модернизм к модерну. Почувствуйте разницу. Модернизм – узко эстетическое направление европейской культуры начала ХХ века – Гауди в Испании, «Югендштиль» в Германии и т.д.. Но модерн – это вся эпоха Нового времени. Модерн начинается с Декартом, Ф.Бэконом и Ньютоном, а заканчивается с нами. Мы уже живем в последней фазе этого периода.
Поэтому постмодерн – это не постмодернизм его первых пропагандистов и теоретиков, – это объективное состояние социкультурной среды, цивилизации, экономики и политики, которое отличается от модерна так же, как Новое время (Декарт, Ньютон с их научной картиной мира или Локк, Монтескье или Кант с их политическими идеями) отличается от Средневековья или общества Древнего Египта. В этом смысле постмодерн еще далеко до конца не сложился, не состоялся. Он наступает, он приходит, он замещает собой модерн. Исчерпывается постмодернизм – постмодерн же только начинается.
Поэтому мы не можем говорить, что мы живем строго в постмодерне. Но вместе с тем, мы живем именно в нем, потому что все основные цивилизационные процессы, развертываясь по инерционному сценарию, влекут нас именно в этом направлении. Вся логика истории человечества – от традиционного общества через стадию модерна обуславливает переход к постмодерну.
Постмодерн не может не наступить
Здесь встает такой вопрос – безальтернативен ли постмодерн? Безусловно, безальтернативен. Это принципиально. Это не выдумка, не гипотеза. Это естественное развитие процесса модерна, который входит в новую – последнюю – стадию и качественно меняется, преодолевая сам себя. Модерн, видимо, изначально нес в себе постмодерн – как дальнюю перспективу. Эпоха модерна была уже заражена этим постмодерном с самого начала, мы сейчас посмотрим насколько это так – хотя в истории постмодерн – это то, что объективно приходит вслед за модерном и во многом – против него, демонтируя систему его аксиом, принципов и истин...
 В какой-то момент энергии, конструкции, аксиомы, типы, структуры того, что составляет специфику модерна, во всех своих философских, социально-политических, этических, гносеологических, когнитивных, эпистемологических аспектах подошли к определенному насыщению («сатурация» П.Сорокина). Можно сказать иначе – «к исчерпанию внутренних энергий». И вот тогда и встает вопрос о постмодерне. В какой-то момент энергии, конструкции, аксиомы, типы, структуры того, что составляет специфику модерна, во всех своих философских, социально-политических, этических, гносеологических, когнитивных, эпистемологических аспектах подошли к определенному насыщению («сатурация» П.Сорокина). Можно сказать иначе – «к исчерпанию внутренних энергий». И вот тогда и встает вопрос о постмодерне.
Мы живем в мире постмодерна, который приходит и который не может не прийти. Рождается постмодерн изнутри самого модерна, как его внутренняя программа. Реализовав свой потенциал полностью, модерн начинает переходить в постмодерн. Если мы это поймем, то это уже будет большим и серьезным вкладом в понимание той метрики, той топологии современности (или уже постсовременности), о которой я говорю.
Постмодерн является продолжением модерна, то есть выходит из него, а не появляется извне, но при этом одновременно является и отрицанием модерна, его внутренним преодолением. В постмодерне завершается, в неожиданном виде сбывается то, что хотел осуществить модерн, но не могло в силу присущих ему ограничений.
Вот первый постулат, который чрезвычайно важно понять: мы живем в эпоху постмодерна, который наступает. Может ли он не наступить? Нет. Он не может не наступить, потому что, по сути дела, после того, когда модерн достиг определенной стадии, у него нет иного выхода, кроме как превратиться в постмодерн.
В битве за наследие модерна победил либерализм
Внутри модерна в ХХ веке существовали разновидности тех идеологических форм, которые модерн мог бы принять на своем последнем витке. Он мог бы стать фашистским модерном, потому что фашизм – это модернистская идеология с большим сочетанием архаических элементов. Но после 1945 года на этой возможности был поставлен крест. Он мог бы стать коммунистическим модерном, и многие коммунисты считали, что социализм, коммунизм и марксизм – это более развитая стадия модерна, нежели либерализм капиталистический, но тоже не стал. Когда коммунизм в 1991 году СССР рухнул, стало ясно, что он не был модерном по настоящему, обнаружилось, что это был не коммунизм, национал-коммунизм (это очень важно осознать, причем безотносительно того, как мы к этому относимся, положительно или отрицательно), то есть это было сочетание архаического мифа (в духе Иоахима да Флора о «третьем царстве» в коммунистическом обличии) с сциентистской парадигмой позитивизма и марксистским экономизмом. Рационалистическая сторона коммунистической доктрины, как предложение построить альтернативный (капиталистическому) модерн или посткапталистический модерн, была контаминирована изнутри мифологической, архаической подоплекой. В фашизме это было очевидно, в коммунизме гораздо менее очевидно. И вот, наконец, победил либерализм, который фактически выиграл фундаментальное пари со своими идеологическими противниками (фашизмом и коммунизмом) в ходе двух Мировых войн и одной «холодной войны».
За это – именно за это! – были пролиты реки крови. Это была битва за то, кто будет наследником модерна, какая идеология будет являться по-настоящему ортодоксально модернистической. Посмотрите, как важны парадигмальные акценты. Как важно подчас оценить, какую цену человечество платит за выяснение подобного рода философских истин. Не моргнув глазом, миллионы людей в ХХ веке шли на войну не за ресурсы, не за собственные интересы, не по каким-то экономическим причинам, а за идею, за наследство модерна.
Три великих идеологии: фашизм, коммунизм и либерализм бились между собой и приносили в жертву страны, народы, континенты. Гигантское количество людей было уничтожено, расстреляно, замучено самым страшным образом - за что? За выяснение только одного: какая среди этих идеологий будет наследником модерна. Вот насколько сильны философские парадигмы в истории.
Ницше говорил еще в конце XIX века: «Я предвижу время, когда войны будут не за интересы, а за идеи». И в ХХ веке – это были войны за идеи. В этих войнах победил либерализм. Несмотря на то, что это совсем уже очевидно, есть представители совершенно разных слоев и групп, которые полагают, что это не так. Это означает, что мы, действительно, живем в мире со сбитой метрикой.
Победа свободы
Вопрос не в том, что либерализм - это хорошо или плохо. Но то, что либерализм победил и отвоевал себе право на то, что он является единственной идеологией, адекватно воплощающей модерн, и исторически, и технологически, и концептуально. Вместе с тем, он продемонстрировал двум другим идеологиям, что причина их поражения была не только в том, что Гитлеру не хватило ума не нападать на Россию или не хватило танков, чтобы выиграть войну на два фронта, или что Советский Союз просто не справился с производством достаточного количества туфель на платформе, болониевых курток и разноцветных полиэтиленовых пакетов и поэтому раздраженный очередями народ, подстегиваемый коммунистами-реформаторами, скинул советскую систему, но в том, что они не в полной мере соответствовали духу модерна, примешивая к нему чужеродные (гетерогенные – не модернистические, архаические) элементы.
Победа либерализма не является технической и технологической победой в Первой, Второй и «холодной» войнах. Либерализм победил идеологически, потому что именно он соответствовал главной тенденции модерна на освобождение индивидуума от всех внеиндивидуальных обязательств. Свобода оказалась сильнее фашистского (расового) братства и советского марксистского (материального) равенства. Свобода. Из трех членов формулы Французской революции - свобода, равенство и братство - мы увидели, как они иерархизированы в истории и какой из этих тезисов – «liberte, egalite, fraternite» – оказался действительно соответствующим сути модерна – это liberte. Liberte либералов оказалось, выше, чем расовое fraternite нацистов или egalite. Одни попытались настоять на своем, другие попытались, но ни тех, ни других больше нет.
Возможно ли возвращение фашизма и коммунизма в модерне? Нет, они могут прийти только как симулякры, как говорил Бодрийяр, и что мы сейчас наблюдаем.
Чукча-скинхэд и симулякр фашизма
 Потому что современные скинхеды сплошь и рядом являются людьми нерусского происхождения, как, например, чукча Рыно, который убил 37 гастарбайтеров в Москве и его подельник поляк Скачевский. Человек по фамилии Рыно, этнический чукча с другом-поляком убили 37 «приезжих», часть из которых были таджиками и армянами (то есть представителями арийских народов). Это называется «фашизм в России». Это, конечно, страшно, погибли люди, но вглядитесь в детали. С одной стороны, арийское fraternite братство германского народа, который поднимается ради волнующей его архаической веры в Одина, завоевывает пол-Европы и заходит на виток мирового господства, довольно успешно сражаясь некоторое время против СССР и экономически развитого либерального Запада. Банда делинквентых маргиналов из мегаполиса, которая из-за проблем с социализацией докатывается до слабо формализованного – «приезжие» – насилия. Чукотский скинхэд Артур Рыно – типичный симулякр по Бодрийяру(2). Фашизм был могущественным и масштабным феноменом (и столь масштабными были его достижения и злодеяния), он принадлежит к истории. Это была полноценная битва за право освоить модерн. Эта битва была проиграна, провалена – причем самым кровавым образом. Потому что современные скинхеды сплошь и рядом являются людьми нерусского происхождения, как, например, чукча Рыно, который убил 37 гастарбайтеров в Москве и его подельник поляк Скачевский. Человек по фамилии Рыно, этнический чукча с другом-поляком убили 37 «приезжих», часть из которых были таджиками и армянами (то есть представителями арийских народов). Это называется «фашизм в России». Это, конечно, страшно, погибли люди, но вглядитесь в детали. С одной стороны, арийское fraternite братство германского народа, который поднимается ради волнующей его архаической веры в Одина, завоевывает пол-Европы и заходит на виток мирового господства, довольно успешно сражаясь некоторое время против СССР и экономически развитого либерального Запада. Банда делинквентых маргиналов из мегаполиса, которая из-за проблем с социализацией докатывается до слабо формализованного – «приезжие» – насилия. Чукотский скинхэд Артур Рыно – типичный симулякр по Бодрийяру(2). Фашизм был могущественным и масштабным феноменом (и столь масштабными были его достижения и злодеяния), он принадлежит к истории. Это была полноценная битва за право освоить модерн. Эта битва была проиграна, провалена – причем самым кровавым образом.
Архаика в СССР
Советский план борьбы за модерн - не менее серьезная инициатива. Это уже не Рыно и гастарбайтеры. Это миллионы уничтоженных русских людей, разрушенные храмы, отрезанные красными комиссарами языки детей, певших «Аллилуйя». Это гигантская борьба за модернизацию архаического крестьянского русского народа и других народов, которые с русскими связали свою судьбу. Их, то есть нас, по-настоящему затронули модернизаторы. Казалось бы, после таких жертв модернизация должна быть полной и необратимой.
Но оказывается и сюда проникла архаика. И снова, как и в случае фашизма, это была ненастоящая модернизация. И это было девиацией, отклонением, потому что как и сквозь fraternite, пролезла архаика, так и даже сквозь egalite, где утверждалась такая модернистская вещь как равенство, тоже проникла архаика – на сей раз эсхатологическая архаика русских сект и хасидских мифов, которые были с ним солидарны. По Михаилу Агурскому(3), они вошли в резонанс – русские эсхатологические ожидания и не менее эсхатологические ожидания хасидских местечек, пролив совместно палящий огонь коммунизма, который практически 70 лет пугал (или восхищал) весь мир. Это была (почти удавшаяся) попытка осуществить общество материального равенства. Но, оказывается, архаика была слишком сильна и здесь. Архаика – это премодерн, традиционное общество. Модерн вытесняет архаику, это его главная функция. Но, как выясняется, архаика всплывает и внутри модерна и отвлекает его от правильного пути.
Правильная история модерна
Свобода из триады модерна оказалась минимально нагруженной архаическими премодернистическими коннотациями. Поэтому, и только поэтому, либерализм и капитализм победил. Победил окончательно, бесповоротно. Можно сколько угодно описывать технические приемы и экономические стратегии, которые привели его к победе. С точки зрения философии истории, это второстепенно. Победила свобода.
Сегодня все политические системы, все этические системы всего мира с разной степенью глубины и искренности, с разной степенью оптимизма (настоящего оптимизма, похоже, вообще не осталось), приняли либерально-демократическую модель. Мы с вами живем в обществе, где либерально-демократические ценности -- ценности свободы -- являются доминирующими и с точки зрения политических институтов, и с точки зрения социокультурных нормативов, и с точки зрения того, что называется американцами «конвенциональной мудростью» – conventional wisdom. Мы можем думать как угодно именно потому, что мы (номинально) свободны. И даже если мы не согласны с тем, что мы живем в «обществе свободы», мы свободны думать так только потому, что мы живем в обществе свободы и вольны думать так или иначе.
Но если отвлечься от этой индивидуальной свободы и посмотреть парадигмально на систему ценностей, которая доминирует в современной России, также мы увидим, что живем в либерально-демократической стране, чья Конституция скопирована с либерально-демократических образцов, чья политическая система разделения властей основана на либерально-демократическом принципе (где есть выборность президента, – на четыре, пять, десять лет, это не важно), чьи культурные установки ориентированы в либерально-демократическом ключе. У нас есть все признаки либеральной социальности: права человека, постоянны разговоры о гражданском обществе, воспевание толерантности и мультикультурализма. То, в чем мы живем, – это либеральная идеология.
Мы еще не начали говорить, собственно, о постмодерне, пока мы говорим о том, как где, и на чем кончается, судьба модерна. А судьба модерна заканчивается, завершается и исчерпывается в либерализме.
 Таким образом, либеральная идеология является венцом того, что называлось модерном. И если это так, если в этой иерархии масонской триады эпохи Великой Французской революции можно однозначно установить приоритет liberte, свободы, то мы можем однозначно понять, как реально устроена логика мировой истории, мы сможем написать правильную историю модерна. Историю, где либеральная линия была главным центром и против нее пытались пробиться, прорваться различные архаические модели – то ли через Маркса (с его мифом о Иоахиме да Флора и левым гегельянством), то ли через через Джентиле(4) (и снова через идеи Гегеля с его прусским государством), то ли через откровенный архаизм расистского «мифа ХХ века», А.Розенберга. Таким образом, либеральная идеология является венцом того, что называлось модерном. И если это так, если в этой иерархии масонской триады эпохи Великой Французской революции можно однозначно установить приоритет liberte, свободы, то мы можем однозначно понять, как реально устроена логика мировой истории, мы сможем написать правильную историю модерна. Историю, где либеральная линия была главным центром и против нее пытались пробиться, прорваться различные архаические модели – то ли через Маркса (с его мифом о Иоахиме да Флора и левым гегельянством), то ли через через Джентиле(4) (и снова через идеи Гегеля с его прусским государством), то ли через откровенный архаизм расистского «мифа ХХ века», А.Розенберга.
Гегель и включенное третье
Интересно отметить роль Гегеля, обращение к его философии присутствовало почти во всех идеологиях, которые пытались отрицать «legacy of liberalism», фундаментальную легитимность либерализма. Гегель пытался в рамках аппарата модерна, философии модерна найти способ ускользнуть от модерна, предложить такую модель, где модерн был бы тесно переплетен с преомдерном.
Яснее всего это видно на примере пересмотра закона исключенного третьего, который лежит в основе «Большой Логики» Гегеля. В этом, если говорить философски, заключается вся хитрость. Дело в том, что закон исключенного третьего («либо А, либо не-А») принадлежит классической логике модерна, а его отрицание, то есть идея что может и «А» и «не-А» могут сосуществовать одновременно, напротив, характерен для традиционногого общества и, особенно, для архаических форм мышления. На этом принципе «tertium datum», «третье дано», на сочетании формально логически не сочетаемого, в премодерне основаны мифы, обряды, символы, ритуалы, доктрины и т.д..
Гегель через рациональные модели лискруса ввел иррациональный компонент премодерна в модерн. Именно поэтому один из наиболее последовательных либеральных теоретиков Карл Поппер инкриминировал Гегелю и его философии самые страшные преступления в области современной политики и выводил из них все известные в ХХ веке разновидности тоталитаризма.
Сегодня это кажется внятным и логичным объяснением. Но ранее это было непросто понять, потому что все идеологии XIX и ХХ вв. сплетались между собой в очень сложный клубок, все протекало в драматическом противостоянии идей и концепций.
Для нас важно, что и коммунизм, и итальянский фашизм в лице  (а также некоторые теоретики германского национал-социализма) вышли из гегельянства. Гегель был консерватором, правым, монархистом. (а также некоторые теоретики германского национал-социализма) вышли из гегельянства. Гегель был консерватором, правым, монархистом.
Этатисты и коммунисты выросли на его идеях, и если мы пытаемся идентифицировать, что в них примешалось к модернистскому призыву к освобождению индивидуума от всех связей, то мы должны в первую очередь уделить внимание Гегелю и его искусному отвержению закона «исключенного третьего», философия Гегеля «третье» как раз включает, на этом и основана его диалектика.
Но вместе с тем, в самое последнее время в лице американских неолибералов – в частности, Фрэнсиса Фукуямы – мы видим, как это ни парадоксально, также обращение к Гегелю, правда, в отдельном аспекте его мысли в теории «конца истории». Американские либералы, никогда не интересовавшиеся особенно Гегелем, открывают для себя его эсхатологические и телеологические концепции именно тогда, когда их идеологические противники – фашизм и коммунизм – полностью повержены. Не свидетельствует ли это о том, что либерализм, самый близкий к чисто парадигме модерна идеологический тип, сам несет в себе отдельные элементы архаики? Но это обнаруживается только тогда, когда по настоящему архаические версии модерна окончательно уходят со сцены. Такое предположение подтверждается другим сюжетом – мифом Иоахима да Флоры.
Иоахимизм
Большое значение термин «третье царство» играет в мистике Иоахима да Флора. Это был калабрийский монах, который предложил троическую модель рассматривать диахронически: вначале было царство Отца, потом оно сменяется царством Сына в Новом завете, а потом наступает царство Святого духа, третье царство. Это, кстати, созвучно и Третьему Риму, и Третьему рейху, и Третьему Интернационалу. Миф Иоахима да Флора провозглашает, что придет такое время, когда обычные законы разделения, дифференциации, морали и власти будут опровергнуты, и наступит эпоха всеобщего безраздельного счастья, которая ознаменуется парусией, явлением Духа, которое снимает все ограничения и все дуальности.
На самом деле все три идеологии – и либерализм, и коммунизм, и фашизм имеют ярко выраженное иоахимитское происхождение и могут быть рассмотрены как три ветви иоахимитского мифа. Но исторически выяснилось, что в споре за реальную эстафету модерна, правы были только либералы. Таким образом, именно либералы выстроили такую идеологическую модель, которая жестко резонировала с «третьим царством» у Иоахима де Флора.
Отсюда делаем вывод, что смысл этой эсхатологической модели заключался в первую очередь в освобождении индивидуума, именно в свободе – а не в равенстве. Равенство было вторичным. Тем более, не в братстве, потому что когда стали смотреть, как это братство будет реализоваться в реальности, выяснилось, что оно проявляется только в органическом коллективе, в этнической цельности, в общине (Gemeinschaft Фердинанда Тенниса(5)). Братство претендовало на модерн недолго. С равенством оказалось сложнее, но и эта иллюзия рухнула (в 1991). И выяснилось, что смысл модерна заключается в освобождении. Отсюда либерализм как libertas, свобода. Это и есть основной тренд модерна.
Можно спросить: либерализм это освобождение индивидуума от чего? От чего хочет освободиться индивидуум? Ответ простой – от всего вообще; от всего внеиндивидуального; от всего того, что привязывает этого индивидуума к какой бы то ни было внеиндивидуальной системе, структуре общества. Свобода индивидуума от государства, от класса, от коллектива, от этноса (отсюда права человека, толерантность, нормы политкорректности). От каких бы то ни было запретов, которые препятствуют его самоидентификации.
Дальше это свобода индивидуума от пола, потому что гендер, с точки зрения либеральной теории, это концлагерь. Если мы мужчины или женщины, значит, мы подчиняемся этой идентичности, которая дана нам, обратите внимание, не индивидуально. Мы же индивидуальны. И чем больше мы индивидуальны, тем больше мы должны быть свободны от любых детерминационных систем и кодов, в том числе и от гендерной идентификации. Чтобы понять, что индивидуум от пола не зависит, самое простое – поменять пол. Был мужчиной, стал женщиной. Сейчас уже практикуются операции по многократной перемене пола, потому что кто-то побыл женщиной, надоело, опять стал мужчиной. С точки зрения биологической, это может вызывать патологические осложнения, но с точки зрения концептуальной, с точки зрения либерализма, это совершенно «естественно».
Речь идет о тотальном освобождении индивидуума от всего – от государства, от класса, от экономических границ, от этноса, от религии; от всего, что придает индивидууму внеиндивидуальную модель идентичности, включая гендер, и является преградой на пути торжествующего движения победившей модели модерна, очищенного от всех посторонних моментов.
Итак, единственной, настоящей ценностью модерна была свобода. Теперь мы можем выстроить то, что пока никем толком не делалось, – настоящую фундаментальную историю модерна, где главной осью будет свобода, а все остальное, что не являлось этой ценностью, в том числе братство и равенство, модно рассматрвиать как побочные флуктуации.
Схема идеологической истории модерна
Итак, не свобода вместе с равенством и братством, а свобода против равенства и братства, поскольку и равенство, и братство ограничивают свободу. Либеральная «Вульгата» Поппера(6) и Хайека(7) является не рядовым полемическим аргументом в идейных спора ХХ века, а но «золотыми скрижалями» победившей версии модерна. Модерн есть либерализм, и смысл модерна заключался в освобождении.
 Если теперь, зная про этот момент, которого не знали до 1991 года, будем рассматривать историю модерна – приблизительно по тому же принципу как это делал М.Фуко, – мы увидим, что и изначально все институты модерна складывались именно на этой отрицательной эпистеме свободы от. На ниспровержении любых авторитетов, релятивизации всех ценностных суждений, на постепенной ликвидации любых социально-политических институтов, которые бы сдерживали бы стремление индивидуума к свободе. Если теперь, зная про этот момент, которого не знали до 1991 года, будем рассматривать историю модерна – приблизительно по тому же принципу как это делал М.Фуко, – мы увидим, что и изначально все институты модерна складывались именно на этой отрицательной эпистеме свободы от. На ниспровержении любых авторитетов, релятивизации всех ценностных суждений, на постепенной ликвидации любых социально-политических институтов, которые бы сдерживали бы стремление индивидуума к свободе.
Индивидуум освобождается
В основе этого освободительного процесса мы видим картезианский деизм. Это шаг в сторону освобождения индивидуума от теизма, от Бога, как его понимает церковь. Вместо этого утверждается деизм – вера в бога, основанная целиком и полностью на индивидуальном рассудке, на постановлении субъекта. В деизме «бог» мыслится как продукт мышления, а значит, такой «бог» освобождает индивидуума от Бога-Вседержителя. У Ньютона этот деистский бог уподобляется «часовщику», «великому механику». Бог становится рациональной гипотезой, необходимой для того, чтобы объяснить вещи, которые пока рационально не понятны.
После деизма наступает следующий этап освобождения – на сей раз освобождение от самого «великого механика», который подстраивает ход планет. Постепенно потребность в этой гипотезе отпадает, появляются прогрессисты Кондорсе, Тюрго, Лаплас, и отбрасывают ее. Это новая стадия освобождения – атеизм. Атеизм постепенно вытесняет деизм.
Но пока еще мы не свободны от морали. Пока мы еще не свободны от партий, от групп, от движений, от государств, которые усматривают свое значение как абсолютных ценностей, но сохраняют статус «ночного сторожа», гаранта соблюдения порядка и свободы торговли. Возникновение национальных государств и теория суверенитета связаны с освобождением от идеи Империи. Эти идеи систематически развил впервые протестантский теолог и юрист Жан Боден(9). Боден, Гоббс и Макиавелли сформулировали идею освобождения государства от всякого трансцендентного смысла и значения, поэтому все трое могут быть причислены к классикам либеральной идеологии. Они же заложили основы современной политологии.
Индивидуум освобождается от всего того, что можно назвать «общим» – по-гречески koinon.
Природа перехода от победившего либерализма к постмодерну
Теперь, переходим к постмодерну. В постмодерне именно эта тенденция, которая только сейчас стала очевидной, то есть чистый модерн как чистый либерализм, завершается, снимается, превращается во что-то еще. Но это происходит не потому, что кто-то из недобитых коммунистов, фашистов, монархистов, архаиков всех мастей, бросил либерализму вызов. Сама идея либеральной свободы при переходе от парадигмы модерна к парадигме постмодерна автономно меняет свою природу, свое качество, причем столь же серьезно, столь же фундаментально и необратимо, как поменяла парадигма человеческого бытия свое качество при переходе от традиционного общества к парадигме модерна.
Как это может быть? Какова природа этого перехода? -- Вот это и есть главное, главная предпосылка, главный тезис той метрики, той топологии, той токсономии идей, которую необходимо осмыслить в первую очередь.
Либерализм обнажил суть модерна – раз. Обнажив суть модерна, как главную ось, освободившись от дополнительных аксессуаров, которые исторически остались от предыдущих этапов, либерализм утвердил себя как магистральный догмат. С этим утверждением либерализма как догмата связана книга «Конец истории» Фрэнсиса Фукуямы(9), который позже сам признался, что поторопился сделать такие выводы. Но с точки зрения логики истории, он прав. Это может произойти не сегодня, возможно, это случится через какой-то этап, но ничего другого в историческом процессе западноевропейского человечества (которое стало доминирующим в планетарном масштабе и пошло по пути прогресса и развития) произойти не может. Тезис и идеи Фукуямы стали столь популярными, потому что они правильны. Он как индивидуальный автор может передумать. Но то, что он высказал, это совершенно корректное высказывание, формально заимствующее концептуальный аппарат гегельянства (через Кожева(10), который впервые предложил «конец истории» рассматривать не как «победу коммунизма», а как триумф либерализма).
Свобода есть полюс однополярного мира
Из этого вытекает несколько важнейших и конкретных моментов. Первое – создание однополярного мира. Что является полюсом этого однополярного мира? Это не обязательно Америка, не обязательно даже Запад. Этим полюсом является свобода. Абсолютная, бьющая ключом свобода индивидуума от всего остального – вот настоящая однополярность.
Да, исторически эта свобода закреплена как норматив и основной принцип в западноевропейском обществе. Там она поднята на щит, утверждена в качестве главной цивилизационной ориентации. В лице США она достигла самых убедительных, самых ярких форм. Но не США, не американцы являются настоящими промоутерами идеи однополярного мира. Однополярный мир, глобальный мир, глобализм, идея конца истории, все они имеют метафизическое философское обоснование в логике модерна и в идеологии либерализма.
Нас создали свободными
Поэтому, когда мы говорим, что нам что-то не нравится в глобализме или в американцах, или нас не устраивает кризис, мы говорим наивные вещи, обращаем внимание на частности, упуская из виду главное. За этим стоит не чьи-то козни, но логика мировой истории, которая четко абсолютно движется к своему телосу, так как эта мировая история была кем-то задумана, реализована и сконфигурирована. Как только мы вступили в модерн, мы встали на путь свободы. Встав на путь свободы, мы выбросили абсолютно все, что мешало этой свободе. Вспомним слова Ницше: «Бог умер»(11). Но ведь это не все. Фраза-то звучит полностью так: «Бог умер, мы убили его, вы и я».
Когда мы встали на путь свободы, мы убили Бога. И мы сейчас живем в цивилизации, в культуре, которая пожинает плоды этого убийства Бога. Почему нам мешал Бог? Он нам мешал, потому что мы решили полностью и тотально пройти путь свободы. Кто нас такими создал? Бог. Что он нам дал? Право свободы. Вот мы и захотели его полностью реализовать. И тот факт, что мы окончили в аду, как сегодня, это естественные последствия того, что мы надкусили яблоко свободы. Нас предупреждали о нежелательности такого поведения, но дали эту возможность надкусить его, сотворив нас свободными.
Ничто и неудобный вопрос
 Западный мир, либеральный мир построил однополярную модель с центром в идее. И эта однополярность является однополярностью безальтернативности модерна, а главный полюс в ней – свобода. Но тут начинается самое интересное. Дело в том, что модерн, будучи реализованным, не имеет никакой длительности. Почему? Потому что, как говорил Ницше, т после смерти Бога перед нами открывается ничто. В ХХ веке философы, которые мыслят немножко быстрее, чем экономисты, ясно поняли, что полная завоеванная свобода вводит в игру главное действующее лицо – ничто, nihil. Ничто становится главной темой современности. Отсюда проблематика Хайдеггера, Сартра, всего экзистенциализма. И в конце концов – Жиль Делез, который от «ничтожности воли» предлагал перейти к «воле к ничто», как главному и последнему аккорду западной философии(12). Делез все понял правильно, нам остается только понять (для начала корректно перевести и осмыслить по-русски). Его ничто принципиально. Ничто появляется по мере того, как индивидуум освобождается от всего. Западный мир, либеральный мир построил однополярную модель с центром в идее. И эта однополярность является однополярностью безальтернативности модерна, а главный полюс в ней – свобода. Но тут начинается самое интересное. Дело в том, что модерн, будучи реализованным, не имеет никакой длительности. Почему? Потому что, как говорил Ницше, т после смерти Бога перед нами открывается ничто. В ХХ веке философы, которые мыслят немножко быстрее, чем экономисты, ясно поняли, что полная завоеванная свобода вводит в игру главное действующее лицо – ничто, nihil. Ничто становится главной темой современности. Отсюда проблематика Хайдеггера, Сартра, всего экзистенциализма. И в конце концов – Жиль Делез, который от «ничтожности воли» предлагал перейти к «воле к ничто», как главному и последнему аккорду западной философии(12). Делез все понял правильно, нам остается только понять (для начала корректно перевести и осмыслить по-русски). Его ничто принципиально. Ничто появляется по мере того, как индивидуум освобождается от всего.
С точки зрения логоса, который был осью истории Запад, если человек освобождается от всего koinon, всеобщего, от всего того, что ограничивает его индивидуальную свободу, то когда это начнет сбываться, в хрупкой перспективе рациональности, история, действительно, должна закончиться. Потому что, освободившись от всего (и вот тут начинается тематика постмодерна), человек, индивидуум должен что сделать? Ну, что должен сделать человек, когда он освободился от всего?
Понятны затруднения с ответом. Это и впрямь нелегкие вещи. Это звучит приблизительно так, как если бы вам предлагалось расчленять трупы. Особенно это неприятно для русского человека, потому что русский до сих пор по инерции живет в koinon, во всеобщности, и никогда не переставал жить, несмотря ни на что. Но мы говорим все-таки о культуре и цивилизации в их строгих рациональных, западных формах.
Отступление о русской неясности
Русские постоянно на протяжении всей своей истории своим нежеланием понимать западный дискурс как его понимал сам Запад, подтачивали комплекс рациональной модели, расплавляли модерн, наделяя его конструкции чем-то другим – своим, привычным, добрым, хорошим, всеобщим, где и Бог есть. Не задумывались, откуда столько сейчас православных? Все это бывшие преподаватели кафедры атеизма, гонители религии, сотрудники спецслужб, которые репрессировали тех, кто молился. Почему они все вдруг внезапно появились в храмах со свечами? И они не лгут. Они абсолютно не лгут. Просто мы, русские, никогда не становились по-настоящему модернистическими. Мы никогда до конца не входили в модерн, в атеизм, в «прогресс». Мы не понимаем, что происходит сегодня, потому что в модерн мы не вовлеклись душой. Русский народ вел колоссальную внутреннюю субверсивную подрывную деятельность против модерна. Он категорически не хотел ничего в нем понимать.
Когда Петр завозил в Петербургскую академию наук преподавателей, которые читали на немецком и на латыни, он завозил с Запада и студентов, потому что русские ничего не понимали и знать ничего не хотели. Лишь когда Петр издал указ, что жениться боярским сынам запрещено без окончания института, тогда они нехотя туда пошли. И что они там стали делать? Они стали саботировать западноевропейскую науку. Первым главным саботажником западноевропейской науки был Михаил Васильевич Ломоносов, который выдвинул собственную, русскую версию полуиррациональной, полумистической науки, лишь внешне напоминающей западно-европейскую.
Русское, конечно, находится в оппозиции модерну – и либерализму, как чистейшему выражению модерна. Мы не приемлем его вообще и не понимаем. Поэтому русским нужно сделать усилие, чтобы понять, что же происходит на самом деле. Нужно разобраться с потоками, трендами, глобальными интеллектуальными, философскими, политическими, государственными тенденциями, которые вели через модерн к постмодерну. Мы их со своим русским предположением, со своим эвфемизмом, со своей уклончивостью и не определенностью, просто так одними заклинаниями и псевдопониманиями не остановим. Движение западно-европейской истории как каток. Это нечто, что можно назвать судьбой, роком. Это логос западноевропейского человечества. И мы под ним, а не против него. И если и есть что-то в нас самобытное, так это сбой навязанных нам извне парадигм, нежелание с этим смиряться и свыкаться. Мы его постоянно превращаем западно-европейский логос в карикатуру. Мы его не понимаем, и рады, и довольны, и нас это не тревожит.
Если у европейца концы с концами не сходятся, что с ним происходит? Он начинает нервничать. У русского человека вообще никогда концы с концами не сходятся – и он спокоен. Это совершенно разные режимы существования.
Но сейчас речь идет о науке, о западно-европейском логосе, мы говорим о западноевропейской культуре, потому что мы находимся в зоне активного воздействия именно этих парадигм. Мы, может быть, хотели бы жить по-другому, но в рамках Академии или Университета, в рамках рациональной культуры, в рамках политической системы, экономических закономерностей и просто той масс-медийной информационной среды, от которой мы неотделимы, мы, конечно, живем в либерализме. В какой-то момент это необходимо признать.
Возвращаемся к вопросу о последнем освобождении индивидуума
Продолжаем так, как если бы смогли превозмочь (на короткое время) в себе русское.
Человек дойдет до полной свободы и скажет: я устал от себя. Я освободился от всего. Не начать ли мне следующую серию жестов свободы? И вот здесь мы подходим к очень важному философскому рубежу.
 Вначале было освобождение от всего остального, кроме индивидуума, была страшная борьба ХХ века с теми, кто по-другому толковал свободу через класс или расу. Остались Джордж Сорос, Джордж Буш, Барак Обама. Все политкорректно, выбрали правильного человека, потому что «белая» программа уже исчерпана, теперь начинается «черная» программа. Это очень тревожная программа, программа постмодерна. Вначале было освобождение от всего остального, кроме индивидуума, была страшная борьба ХХ века с теми, кто по-другому толковал свободу через класс или расу. Остались Джордж Сорос, Джордж Буш, Барак Обама. Все политкорректно, выбрали правильного человека, потому что «белая» программа уже исчерпана, теперь начинается «черная» программа. Это очень тревожная программа, программа постмодерна.
Программа постмодерна приходит тогда, когда нигилистический пафос модерна достигает полной победы, когда он торжествует.
Давайте посмотрим, что извел модерн в своем становлении на пути к торжеству либерализма? Он извел архаическое общество. Но изведя это общество, он опустошил свой «белый» логос, и обнаружил под его распавшимися скорлупами «черное» зияющее ничто. Модерн и либерализм хотел изжить все (понятое как архаическое, как koinon) и добился этого. Тем самым индивидуум освободился от всего того, что составляло ранее его содержание. Он освободился от человека. Он освободился от самого себя. Проект успешно осуществленного модерна открылся как удачно осуществленный суицид.
Концлагерь в себе
От этого «белого» логоса мы, со своей стороны, всячески увертывались. Мы не хотели его признать, но не в открытую – это не получалось – а косвенно. Из западных версий модерна мы выбрали одну – марксистскую – и под ней скрыли в ХХ веке свою русскую инаковость. Оппозиция Западу развертывалась под западными же знаменами. Но смысл был иной – под всеми основными пунктами модернизации мы понимали что-то свое, но не то чтобы ясное «свое» рационально спрятанное под внешне «чужое», а такое «свое», которое перестало быть «своим», но не стало и «чужим».
Мы с этой уклончивой тактикой – тактикой стратегического недопонимания – проиграли в 1991 году. Либерализм выиграл. Он избавился от своих исторических корней, которые тянули его назад, от своего груза истории, он избавился от своего западного же премодерна. И когда либерализм победил, он остался один на один с ничто.
И вот тут как раз и возникает самое интересное: однополярный мир, глобальность американской доминации может длиться очень короткий момент. Более того, он вообще не может длиться, потому что весь смысл становления модерна заключался в том, чтобы побороть внутренние примеси, преодолеть исторические пережитки своей собственной истории и бороться с альтернативными изданиями – с фашизмом и коммунизмом. Как только либерализм в 1991 одержал свою полную победу и ничего к этой свободе больше не примешивалось, настал триумф индивидуума – индивидуума в чистом виде.
 Теперь индивидуум, освобожденный от иных забот, занялся самим собой. Начало этой озабоченности приходится на пару десятилетий раньше, когда общий исход противостояния Запад-Восток для европейских интеллектуалов был очевиден в философском смысле. На этот период приходится расцвет постструктуралистской философии, которая выросла из новых левых. В частности, это Бернар Анри Леви, Анри Глюксман, которые являются сегодня советниками Саркози, как Р. Барт и структуралисты, заявили о «конце автора» и даже о «конец человека». Если Ницше в конце XIX века говорил, что умер Бог, то в 80-е годы ХХ века умер человек. Почему? Потому что постмодернистская критика обнаружила, что под «человеком» в Новое время скрывается метафора Бога, что человек есть репрессивный аппарат, который собирает органы, чувства, желания, либидо, содержание бессознательного, складки и другие проявления телесного характера в репрессивную фашистскую мини-империю, где правит рассудок, подавляющий всякие импульсы, признанные им нежелательными, создающий ГУЛАГ и Освенцим в миниатюре, где бесконечные атомы желаний постоянно отправляется в «газовые камеры». Захотел человек сделать что-то неприличное, разум ему не дает. Постоянно только и делает, что не дает. Это «святая инквизиция» действующая постоянно. Телесные импульсы постоянно лишаются свободы и права на существование. Разум и культура суть абсолютно не толерантные вещи, из них вытекает мораль, необходимость соблюдения правил, определенных социальных, профессиональных, научных, гендерных стратегий. Теперь индивидуум, освобожденный от иных забот, занялся самим собой. Начало этой озабоченности приходится на пару десятилетий раньше, когда общий исход противостояния Запад-Восток для европейских интеллектуалов был очевиден в философском смысле. На этот период приходится расцвет постструктуралистской философии, которая выросла из новых левых. В частности, это Бернар Анри Леви, Анри Глюксман, которые являются сегодня советниками Саркози, как Р. Барт и структуралисты, заявили о «конце автора» и даже о «конец человека». Если Ницше в конце XIX века говорил, что умер Бог, то в 80-е годы ХХ века умер человек. Почему? Потому что постмодернистская критика обнаружила, что под «человеком» в Новое время скрывается метафора Бога, что человек есть репрессивный аппарат, который собирает органы, чувства, желания, либидо, содержание бессознательного, складки и другие проявления телесного характера в репрессивную фашистскую мини-империю, где правит рассудок, подавляющий всякие импульсы, признанные им нежелательными, создающий ГУЛАГ и Освенцим в миниатюре, где бесконечные атомы желаний постоянно отправляется в «газовые камеры». Захотел человек сделать что-то неприличное, разум ему не дает. Постоянно только и делает, что не дает. Это «святая инквизиция» действующая постоянно. Телесные импульсы постоянно лишаются свободы и права на существование. Разум и культура суть абсолютно не толерантные вещи, из них вытекает мораль, необходимость соблюдения правил, определенных социальных, профессиональных, научных, гендерных стратегий.
Избавившись от концлагеря вовне (победив тоталитарные режимы), индивидуум обнаружил этот концлагерь в самом себе.
В либерализме человеческое эго боролось за свободу от суперэго. А когда оно победило суперэго во всех своих формах, оно сказало: а само-то я разве не суперэго? Посмотрите, как я веду себя по отношению к своим помыслам? Постмодернисты решили, что самым безобразным образом, самым «фашистским», «коммунистическим». Что мы делаем с какими-то темными желаниями, которые появляются в нас? Во-первых, их называем «темными», считаем «неприличными», потом почему-то запрещаем им реализовываться. Значит, мы сами являемся «фашистами» для самих себя. Ролан Барт сказал, что язык – это фашизм(13). Когда постструктуралисты начали его внимательно исследовать с этой точки зрения, оказалось, что язык содержит все формы репрессий подавлений, иерархий. Вместо жестко структурированного языка, Барт предлагает бессмысленно бубнить, пускать пузыри, нужно сесть где-нибудь в кафе, и пусть дальше само все происходит, без языка, а совокупность клаксонов, выкриков, шумов, звук капели образует новый постязык – на сей раз по-настоящему плюральный, либерально-демократический и свободный, в отличие от «тоталитарной», репрессивной речи, на которой изъясняются обычные люди. Об этом много написано у Юлии Кристевой, жены Ролана Барта(14).
Мы можем подумать, что речь идет о каких-то экстравагантных изысках. На самом деле, речь идет о неумолимой поступи человеческой истории, которая движется по жестко определенному, ясному, продуманному и стройному в самом себе плану. Как только человек вступил на путь свободы, он рано или поздно, если он до этого дойдет правильно и не собьется на коммунистический, фашистский или какой-нибудь другой окольный путь, дойдет до самоликвидации. И впереди у него только ничто.
Ризома
А пока ничто не реализовано, выковывая волю к нему, философ Жиль Делез предлагает нам промежуточную конструкцию – ризому. Ризома – это то, что приходит на смену субъекта или индивидуума в постмодерне. Ризома – по- гречески клубень, грибница, растение, которое отличается от остальных тем, что растет не вертикально, а горизонтально. Оно растет под землей, создавая систему грибниц или разветвленных корневищ. Ростки и корни эта сеть может пустить в любом месте. Поэтому ризома, может появиться там, где ее не ждут. В какой-то момент в ризоме образуется луковица, которая дает вверх стебель, а вниз корни. И, казалось бы, мы можем вырвать стебель с корнями. Но ризоме ничего от этого не будет, потому что это была только бесконечно малая часть сети подземных, невидимых корней, которые продолжаются во всех направлениях и могут появиться внезапно в другом месте. Ризома дает новые всходы.
С понятием ризомы Делез связывает нового субъекта постмодерна, постсубъекта или постчеловеческую реальность. Человек воспринимается как сетевая множественность эго, которая проявляется в одном месте как «Ваня», в другом месте как «Маша», в третьем месте как сотрудник органов госбезопасности, в четвертом как компьютерный ник, в пятом как алкоголик, и в разных местах сетевая постличность дает разные всходы.
Кроны и корни обычных растений подобны образованию личной истории. Поэтому, когда ризома в конкретный момент дает всходы и корни, она уподобляется обычному существу с его прошлым (корнями) и его будущим стеблем), с его идентичностью. Идентичность всегда вертикальна, ризоматическая идентичность, напротив, принципиально горизонтальна, а вертикальна лишь спорадически, игровым образом. Ризома не просто против эго.
Ризома – это некий компромисс между наличием эго и его отсутствием.
Ризома в политике
Ризома сейчас является главным содержанием мировой политики. Наша политика, наше общество, наши регионы, наша власть не исключение, они тоже достаточно ризоматичны.
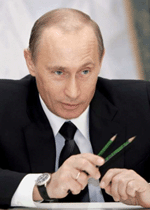 Давайте послушаем, что говорит, например, Путин. Как правило, все время прямо противоположные вещи. В Давосе он утверждает – «мы хотим разоблачить либерально-буржуазную цивилизацию с ее экономическими провальными примерами и методологиями, которые довели страну и весь мир до кризиса», и плавно переходит к тому, что «мы сохраняем верность этим законам свободы, порядка, чести и полностью готовы участвовать в глобальном мировом капиталистическом производстве», и снова соскальзывает – «доведшим страну до кризиса», и так далее. Это – ряды ризоматического толка, ясность дистанции, существующую у дерева между кроной и корнями, являющаяся конститутивной для эго, снята, замутнена. Что позволяет думать, что эго либо перешло в горизонтальное положение, либо свернулось под землей бубликом. Вместо эго действует ризома. В принципе, если что-то вырвать из этой путинской речи, она нисколько не потеряет. Ее можно интерпретировать как угодно. И, в принципе, это не будет влиять ни на какие процессы ни в стране, ни во внешней политике, потому что в другом, совершенно не известном месте, возникнет что-то другое. Давайте послушаем, что говорит, например, Путин. Как правило, все время прямо противоположные вещи. В Давосе он утверждает – «мы хотим разоблачить либерально-буржуазную цивилизацию с ее экономическими провальными примерами и методологиями, которые довели страну и весь мир до кризиса», и плавно переходит к тому, что «мы сохраняем верность этим законам свободы, порядка, чести и полностью готовы участвовать в глобальном мировом капиталистическом производстве», и снова соскальзывает – «доведшим страну до кризиса», и так далее. Это – ряды ризоматического толка, ясность дистанции, существующую у дерева между кроной и корнями, являющаяся конститутивной для эго, снята, замутнена. Что позволяет думать, что эго либо перешло в горизонтальное положение, либо свернулось под землей бубликом. Вместо эго действует ризома. В принципе, если что-то вырвать из этой путинской речи, она нисколько не потеряет. Ее можно интерпретировать как угодно. И, в принципе, это не будет влиять ни на какие процессы ни в стране, ни во внешней политике, потому что в другом, совершенно не известном месте, возникнет что-то другое.
Постчеловек уже здесь
Мы не знаем, где вылезет следующий росток ризомы, потому что она скрыта, она движется под землей и под землей распространяется в неопределенном направлении. Мы не можем ее просчитать. В этом смысл метафоры Жиля Делеза и Феликса Гваттари о шизофрении в книге «Антиэдип. Капитализм и шизофрения», где они разработали эту концепцию шизомасс и ризоматического бытия.
По инерции, либеральной инерции или, скажем, по инерции классического модерна, рассматриваем перспективу перехода от эго к ризоме как нечто жуткое. Но если мы внимательно посмотрим на произведения искусств, на фильмы Линча, Тарантино, например, на фильм «Убить Билла», мы увидим, что постчеловек уже здесь. По сути дела, там нет субъекта. Там есть череда затянутых, сложных и подчас очень красивых, ярких событий, которые не несут в себе никакого смысла. И не понятно, кто их совершает и для чего. Постепенно это ризоматическое бытие наступает – в рекламе, в клипах, в обрывочных сообщениях молодежи – SMS, чатах, форумах, ICQ и т.д.
Принцип ризомы – это отказ от накопительности. Это касается и накопления знаний. Накопительными знания были в модерне. И смысл этой накопительности состоял в освобождении от предрассудков, мифов, пережитков и так далее. Но в какой-то момент этот процесс исчерпался, поскольку дальше освобождаться просто было не от чего. И тогда начинают вступать в действие законы ризоматического бытия. Само знание становится ризоматическим, игровым, разрозненным, причудливо сходящимся и расходящимся.
Так от режима однополярного мира, где свобода стоит в центре, мы постепенно смещаемся к глобальному сетевому сообществу, о котором говорил Кастельс, Луман и другие социологи, где, в принципе, в системе нет центра. И этим псевдоцентром является только постмодернистический импульс перехода от субъекта к ризоме.
Кризис и новый порядок деривативов
Таким образом, ризома из философского образа Делеза становится актором нашей социально-политической жизни, а не только культуры. И то, что сейчас происходит в мире, кризис глобальный экономики – это как раз следствие такого сложного перехода от экономики, где была минимальная регуляция, к новой форме – к постэкономике. Регуляция – это диктат суперэго, пусть даже в либерализме, но он слегка остался, ведь торговать надо было по правилам. Этот диктат попытались некоторым образом смягчить.
Из-за чего начался кризис? В Америке рухнула ипотека. Почему она рухнула? Потому что в Америке в шесть раз был завышен потребительский кредит. Людям давали денег гораздо больше, чем они могли принципиально отдать, ожидая, что если выпустить заведомо провальные деривативы, то все будет хорошо. Экономисты Роберт Мертон и Майрон Шоулз в 1997 получили Нобелевскую премию за то, что они доказали, что так можно действовать бесконечно, и финансовый кризис никогда не произойдет. То есть, они стали подстраивать научные гипотезы под логические системы игрового капитализма, встраивать ризоматические модели в ткань глобальной экономики.
Построить такую систему, где можно выпустить ничем не обеспеченные векселя, люди на них приобретут квартиры, но не смогут отдать деньги и их при этом нельзя будет оттуда выселить, а на сумму заведомо невозвратной задолженности всех всем выпустить новую серию ничем не обеспеченных ценных бумаг, вбросить их на биржу и устроить вокруг них истерическую спекулятивную активность – эта была первая попытка мягко соскользнуть к ризоматическому укладу новой экономики. Именно с этим связано падение «Lehman Brothers», «Фредди Мак» и «Фанни Мэй» . Кстати, вся американская экономика была построена на бесконечном выпуске деривативов. Это была ризоматическая идея, но в рамках еще более-менее либерального экономического логоса. Сейчас она провалилась. И теперь многие думают: чем обернется эта история с крахом первой попытки построить глобальную либеральную экономику на ризоматической основе.
Сейчас можно услышать: давайте вернемся к регуляционизму, дирижизму, протекционизму, кейнсианской модели – давайте вернемся к «суперэго» в экономике, начнем со стороны государства следить за этими процессами.
Многие идеологические противники либерализма уже стали говорить: значит, когда стало плохо, вы пошли за кредитами к государству, а до этого просили не вмешиваться в экономическую политику фирм. Но те люди, в том числе экономисты, которые считают, что нынешний глобальный кризис закончится шагом назад или что мы просто определенным образом вернемся к какому-то другому, нелиберальному устройству, глубоко ошибаются. Мы не можем к нему вернуться.
Есть путь в ризому, путь в создание все большей и большей системы порядка деривативов, но нет пути из ризомы. И самым главным деривативом этой новой экономической системы, которая сложиться после кризиса, будет дериватив эго, дериватив человека, причем, дериватив в самом тотальном смысле. Это будет штрих-код, который будет заменять собой человека во всех отношениях. Без этого штрих-кода человек вообще ничего не сможет. Он даже просто «а» не сможет сказать. Это будет, безусловно, новый виток в экспериментах клонирования, потому что в ходе этого кризиса должны будут окончательно девальвироваться все сдерживающие моральные модели. Это будет создание постчеловеческих существ в виде киборгов и клонов, и к этому все технологически готово.
У нынешнего Патриарха Кирилла, когда он еще был Митрополитом, в комиссиях по подготовке Всемирного Русского Народного Собора анализировали ряд постановлений Еврокомиссии и Евросоюза о моральном запрете на некоторые виды генетических исследований, которые приводят к альтернативным человеческим изменениям. Выяснилось, что есть постановления Евросоюза о том, что на основании неприкосновенности эго таких экспериментов проводить нельзя. Это в модерне нельзя, а в постмодерне не просто можно, но и нужно. Постепенно идея о том, что «эго трогать нельзя» и что это есть высшая ценность, при отсутствии внешних идеологических противников и интенсификации внутренних процессов самоосвобождения потеряет свой смысл и свою силу.
Но все уже запущено. Раз есть ограничение на выведение постчеловеческих видов, раз они технологически возможны, и раз существует формальный юридический запрет на развитие таких технологий, значит, эти технологии находятся в последней стадии подготовки. И постчеловек стоит наготове. Технологически это уже почти возможно, но морально пока еще нет.
«Монстр спасает негритят»
Представим себе, по какой логике будут сниматься запреты на выведение постчеловека. Для спасения, скажем, африканских детей, попавших в беду, кто-то предложит послать на помощь постчеловека (киборга или клона).
Запрет попросят снять всего один раз – из-за душераздирающего размаха гуманитарной катастрофы. Мутант успешно справится с миссией и улетит на реактивном двигателе с горсткой спасенных малышей из жерла вулкана. Это продемонстируют по CNN, потом покажут, как Обама пожимает ему руку, а рядом стоят спасенные негритята и плачут. В награду от благодарного человечества, киборга сохранят и дадут ему пост в МЧС. И запрет станет относительным: да, просто так нельзя создавать мутантов, но иногда для каких-то целей, для гражданского общества, для неправительственных организаций, для гуманитарных акций, для получения грантов можно. И, соответственно, будет найдено убедительное моральное объяснение, тем более, что мораль эволюционирует.
 Мы видим, как изменилась мораль западноевропейского общества с 40-х или 50-х до сегодняшнего дня. В 30-е годы публичное высказывание о своей нетрадиционной половой ориентации грозило юридической статьей. То есть, если мужчина оделся как женщина, и ведет себя соответствующим образом, его могут арестовать и осудить за оскорбление общественной морали. Сегодня же, если кто-то негативно выскажется о таких «переодетых», которых тысячами бродят по улицам европейских и азиатских столиц, если человек публично выразит несогласие с гей-парадом, он будет в западных странах подвергнут наказанию разной степени – от штрафа до тюремного заключения. Значит, в 40-е годы садились одни, в 2000-е годы садятся прямо противоположные. Точно также сегодня существует запрет на клонирование и создание постчеловеческих видов, а завтра он будет пересмотрен исходя из гуманитарных соображений. Нужно обратить внимание не на то, как осцилируют аргументы в отношении подобного рода проектов, а как развертывается большая логика, двигающаяся только в одном направлении. Мы видим, как изменилась мораль западноевропейского общества с 40-х или 50-х до сегодняшнего дня. В 30-е годы публичное высказывание о своей нетрадиционной половой ориентации грозило юридической статьей. То есть, если мужчина оделся как женщина, и ведет себя соответствующим образом, его могут арестовать и осудить за оскорбление общественной морали. Сегодня же, если кто-то негативно выскажется о таких «переодетых», которых тысячами бродят по улицам европейских и азиатских столиц, если человек публично выразит несогласие с гей-парадом, он будет в западных странах подвергнут наказанию разной степени – от штрафа до тюремного заключения. Значит, в 40-е годы садились одни, в 2000-е годы садятся прямо противоположные. Точно также сегодня существует запрет на клонирование и создание постчеловеческих видов, а завтра он будет пересмотрен исходя из гуманитарных соображений. Нужно обратить внимание не на то, как осцилируют аргументы в отношении подобного рода проектов, а как развертывается большая логика, двигающаяся только в одном направлении.
Освобожденное ничто
Подведем итог теме постмодерна. Тезис Запада – это тезис либерализма. Однополярный мир - это мир, в котором полюсом является свобода. А постмодерн является уникальным состоянием, когда этот однополярный мир полностью сбывается, реализуется, осуществляется и тут же превращается в нечто иное. Здесь нет возможности оттянуть момент: мол, вначале мы еще поживем в затянувшемся эоне победившего модерна, а только потом пусть к нам придут эти постчеловеческие фигуры из ризоматических грез (а может, они еще и окажутся «добрыми»!). Нет, эти фигуры, то есть ризома – постсубъект, постчеловек придет ровно в тот момент, когда модерн победит. Не против него. Он просто выйдет из него, как из яйца вылупляется цыпленок. На самом деле, постмодерн – это цыпленок внутри яйца модерна. Потому что, освободившись от всего, чего можно, от всяких всеобщеностей (koinon), начиная с Бога и кончая историей, нельзя на этом остановиться, невозможно -- слишком большая инерция. И сказав как Ницше, что «Бог умер», это стало не просто высказыванием, в этом выразился девятый вал бури европейской истории. Это гигантский факт. Наивно думать, что после этого можно скромно попросить надвигающуюся безжалостную тьму освобожденного ничто – «оставьте нам, пожалуйста, возможность хотя бы немного еще побыть просто людьми!» нельзя «На каком основании?» – спросят самые последовательные творцы мировой истории, архитекторы свободы… И даже не самые последовательные, а просто сама мировая тенденция к свободе, которая все это двигала, была основным вектором европейской истории в последние тысячелетия и которая уже не раз стирала в порошок всех тех, кто пытался ей сопротивляться, ставал у нее на пути или просто просил замедлиться.
Главный вывод из нашего изложения заключается в том, что отменить приход постмодерна декретом нельзя. Это слишком серьезная реальность. Об этом писал в свое время много писал Мартин Хайдеггер(15).
Метафизическая революция, которая, скорее всего не состоится (М.Хайдеггер)
 Хайдеггеровская философия блестяще иллюстрирует то, что человечество вначале из мифа порождает логос, – то есть то, что Хайдеггер называет «большое начало», «великое начало». У Хайдеггера это досократическая философия. Потом этот логос начинает отчуждаться и переходит в учение Платона об идеях. На основании противопоставленности предсубъекта (разума) предобъекту (миру вещей), из референциальной теории истины еще платоновского толка порождается все дальнейшее развитие западноевропейской цивилизации. Эта цивилизация является развертыванием «технического» («Das Technische»). По Хайдеггеру, это приходит к определенной точке, когда логос, изначально противопоставивший себе ничто, оказывается полностью контаминированным (пропитанным, зараженным, насыщенным) ничто изнутри и извне. Тут происходит взрыв, коллапс, переворот. Хайдеггер называл его «событие» (Ereignis). В 30 и 40- годы ХАйдеггер, испытывавший определенные надежды на эволюцию национал-социализма, верил в связь «события» с идеологией «третьего пути» и с переворотом всего хода мировой истории. Но когда этого не произошло, и национал-социализм оказался не тем, чем считал Хайдеггер, он пережил серьезный кризис и тема Ereignis повисла в воздухе. Последние хайдеггеровские предсказания были связаны с тем, что, видимо, человечество не сможет собраться в критический момент – когда логос будет падать, и изнутри и извне будет подниматься ничто – человечество не сможет осуществить совершенно ключевое метафизическое действие, «вывернуть ночь наизнанку». Хайдеггеровская философия блестяще иллюстрирует то, что человечество вначале из мифа порождает логос, – то есть то, что Хайдеггер называет «большое начало», «великое начало». У Хайдеггера это досократическая философия. Потом этот логос начинает отчуждаться и переходит в учение Платона об идеях. На основании противопоставленности предсубъекта (разума) предобъекту (миру вещей), из референциальной теории истины еще платоновского толка порождается все дальнейшее развитие западноевропейской цивилизации. Эта цивилизация является развертыванием «технического» («Das Technische»). По Хайдеггеру, это приходит к определенной точке, когда логос, изначально противопоставивший себе ничто, оказывается полностью контаминированным (пропитанным, зараженным, насыщенным) ничто изнутри и извне. Тут происходит взрыв, коллапс, переворот. Хайдеггер называл его «событие» (Ereignis). В 30 и 40- годы ХАйдеггер, испытывавший определенные надежды на эволюцию национал-социализма, верил в связь «события» с идеологией «третьего пути» и с переворотом всего хода мировой истории. Но когда этого не произошло, и национал-социализм оказался не тем, чем считал Хайдеггер, он пережил серьезный кризис и тема Ereignis повисла в воздухе. Последние хайдеггеровские предсказания были связаны с тем, что, видимо, человечество не сможет собраться в критический момент – когда логос будет падать, и изнутри и извне будет подниматься ничто – человечество не сможет осуществить совершенно ключевое метафизическое действие, «вывернуть ночь наизнанку».
Примечения:
1. Дженкс Чарльз. Язык архитектуры постмодернизма. - М., Стройиздат: 1985.
2. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция // Философия эпохи постмодерна. / Сб. переводов и рефератов. - Минск, 1996
3. Агурский Михаил. Идеология национал-большевизма. — М., 2003
4. Джентиле Дж. Введение в философию. – СПБ.: Алетейя, 2000
5. Тённис Ф. Общность и общество. СПБ.: Владимир Даль, 2002.
6. Поппер К. Открытое общество и его враги. т. 1-2. - М., 1992
7. Хайек Ф. Судьбы либерализма в XX веке - М., 2009
8. Боден Ж. Метод легкого познания истории. – М., 2000
9. Фукуяма Френсис. Конец истории и последний человек. — М:. АСТ, 2004
10. Кожев А. Атеизм. – М.: Праксис, 2007
11. Ницше Ф. Сочинения в 2 т. - М., 1996
12. Делёз Жиль, Гваттари Феликс. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. — Екатеринбург, 2007.
13. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М., 1989
14. Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М., 2004.
15. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997
|